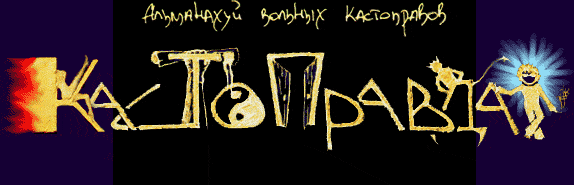
|
|
||
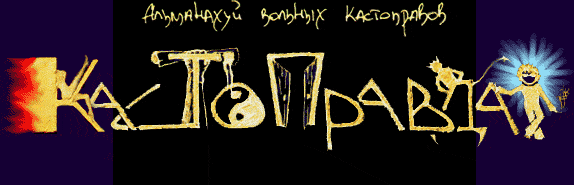 |
||
|
год четвертый13/o6/2оо4 все меняется, приятель. этот город с острыми когтями на длинных пальцах - раз, под ребро, что, отвык? крутится карусель, мясорубка, крутится садовое-десадовое. что за лето началось, не хватает солнца, не хватает, Господи, чуточку твоего дыхания. ветер гонит тучи на восток, властно, едва не разбив мне окно, все ведь меняется, так и должно быть. смотри в оба, таким город ты больше не увидишь. там, где недавно стоял дом, теперь пустырь, точнее стройка. улицы завешены изумрудными волнами предохранительных сеток, по ночам они бьются как паруса, а мы давно уже на корабле в плавании без берегов. гостиница "савой" в лесах, гостиница "москва" - как же красиво она умирает. ее разбирают по кирпичу, в облаках пыли лохмотья неба, которое отвоевали у крыш, так могли бы съедать дерево жуки и очень быстрое время. но это просто очень быстрое время и гастарбайтеры. скоро половина центра перестанет существовать такой, какой мы ее знаем. дома и дома, конечно, судьбы и судьбы. я встретил древнюю старушку, она живет в переулке возле дмитровской уже 60 лет, она ходила по этим улицам в большой театр, чтобы делать декорации, в магазины, на свидания, на прогулки. она вдруг заблудилась, впервые в своей жизни, ошиблась переулком, свернула не туда, не нашла свой подъезд. удивилась, посмеялась и стала рассказывать, мол здесь раньше ходили трамваи, они сворачивали за угол, шли вниз, к кузнецкому. потом их убрали, и стали ходить троллейбусы. теперь, куда уж тут троллейбусам. шикарные авто, прохожие, торопливые, как же иначе, пешеходы. улица та же, да не та. улица продолжает жить. если вести счет переменам, сколько найдется потерь? в какой-то книжке с развала за 30 рублей описана планета, где одновременно существуют все варианты одной жизни, нет упущенных возможностей и прозяпаных шансов. если ты теряешь любимые часы, то одновременно ты их не теряешь, судьба ветвится, и видно как ты, здесь потерявший часы, идешь там с ними в кармане. второе призрачно, быть может фантом, миф, но это вопрос веры. здесь больше не ходят трамваи, но почему бы нам не прокатиться. иллюзию можно стереть в порошок, но прислушайся, в выщербленных стенах, в трещинах штукатурки можно услышать эхо, лязг и дребезг чугунных колес. оттого шум этой улицы так отличается от других, и часы, что я давно потерял, тикают в моем кармане. впрочем, это я обманул город или он меня? издалека кажется, что здесь действительно стоит дом, окна, двери, балкончики, но вблизи он плоский как ткань, на которой все это нарисовано. ветер играется с ней, играется с тобой, и вот, он показывает мне городское нутро, кости и мясо, ткань в углу срывается с крепежей. это ночь и эта брешь еще одно пятно тьмы, король кажется голым, но москва - королева, кажется кокетливо приподняла платьице пока темно, пока смущение меньше желания, а гордость не принципиальна и беззащитна. что у тебя внутри, за каркасом, который держит иллюзию свежести - пустая площадь, как свернувшаяся кровь кирпич, окна, которые до сих пор не видели света, упираясь в стены некогда двора. тебе больно, если я наступлю в это крошево перемен, но ведь это следы жизни, а не признаки умирания. хотя все это перемешано, вместе с битым стеклом, строительным мусором, пустотой, воспоминаниями, замыслами. с каждым шагом по тебе, я чувствую как капает кровь в разрезанные осколками подошвы. какой простор в самом центре, где дома уже не помнят, стоят ли они отдельно или часть огромного эклектичного ансамбля. влезть в эту брешь, стать посреди пустыря и забыть, что это столица, будучи в самой воронке ее памяти. у этого города есть столько пространств, стоит лишь свернуть с никольской в арку и от лощеной улицы не останется и следа. там оказывается есть церковь, какой-то завод, там оказывается есть небо со всей своей нынешней ватой, закрывающей солнце. там есть свой запах и свой шум. там поют птицы, и нету пешеходов, чьей походкой и задается ритм городской жизни. да, этой жизни с острыми когтями на длинных пальцах, уже у тебя под ребром, отвыкай. отвыкай от этой походки, от самого себя, от того, что уже видел и слышал, потому как идут перемены и ничто уже не повторится так. никогда. здесь начинается ливень. мимо окна падает все, что он смывает с крыш. но в асфальте найдется трещина и не одна, чтобы земля впитала это в себя. думаю, навсегда.
16/o4/2оо4 Определить наверняка, что пришла весна, и зима оставила этот город, всегда можно по крышам. Снег сходит с них первым, потому первая весенняя зелень - это зелень крыш. Впрочем, они бывают серые, ржавые, черные, красные - они распускаются как цветы над городом, там, где их не видят прохожие, еще кутающиеся в теплые куртки. Эти цветы должны выцвести на солнце, краска обтрепаться ливнями и ветрами, и тогда их сорвет ураган с красивым женским именем, подступающий к городу раз в сотни лет, чтобы остаться с ним один на один, без свидетелей-прохожих, раздевая и царапая плоть улиц, бульваров, парков, зданий. Это было красиво в 1996-м, ступить на крышу было проще простого, они лежали у ног, растрепанные, словно ромашки после гадания. Ступить на крышу - это не для всех. Петр Васильевич нигде не работал, не имел страхового свидетельства, паспорта и ИНН, и крыши были его излюбленным местом для посиделок. Вернее, он всегда располагался на кончике кирпичной трубы, если, конечно, жители верхнего этажа не топили камин. По утрам, когда город еще молчит, уже слышна его быстрая тараторящая походка. "Здравствуйте, Петр Васильевич", - в ответ он лишь наклонял голову и впивался как будто единственным зрячим глазом в своего первого сегодняшнего посетителя. Впрочем, понять, куда на самом деле он смотрит, невозможно - на востоке поднялось солнце. Когда кончится день, и тьма, пусть и жидкая, городская, окутает дома, Петр Васильевич взмахнет своим смоляным крылом и растворится в дыму растопленного камина. "Здравствуйте, Петр Васильевич", - с усмешкой приветствует ворона, сидящего на кончике трубы, техник Михалыч, выбравшийся из норы чердака со спутниковой тарелкой в руках. Петр Васильевич, его начальник, действительно чем-то похож на старую черную птицу - острый нос и цепкий взгляд изнутри ничего не выражающего лица. "Чтоб тебя, и здесь за нами приглядывать…". Впрочем, несмотря на раннее утро и крылатый аватар начальника на трубе, Михалыч в прекрасном расположении духа. Он раскладывает инструменты и принимается за работу - заказов сегодня много, к тому же скоро крыша нагреется и станет жарко. Город начинает стучать своими ритмами - они ложатся на крыши Африкой, Ямайкой, Японией, подвалами европейских дискотек и улицами хип-хоп Америки. Михалыч уже привинтил тарелку, подключил провода, снял рабочую куртку, но, пританцовывая, остается на крыше, деля вид, что работает. Все, кто вдруг попадают на эту крышу с гулких и тесных улиц, делают вид, что работают. Трубочисты опускают гири, настройщики спутникового ТВ то и дело поправляют антенну, рабочие как будто бы моют окна мансард, что-то исправляют, подделывают, дворники, зимой счистив снег, продолжают ходить вдоль карниза и выискивать сосульки… Никто не уходит сразу. Ведь они знают одну общую тайну, прикасаясь к ней всякий раз, ступая на крышу. Эта тайна крыш выбрала их на такую работу - но лишь для прохожих они трубочисты, рабочие, техники, мойщики окон, дворники. Друг для друга они хранители, люди городских крыш. Петр Васильевич знает каждого из них в лицо, на каждого из них есть черное перо его крыльев. Изредка к нему попадают случайные гости, отважившиеся на каблучках влезть по щербатой пожарной лестнице, чтобы посмотреть салют, чтобы расчехлить бинокль, чтобы щелкнуть фотоаппаратом. Он впивается как будто единственным зрячим глазом в гостей, но они не видят этого. Цветной ковер городских крыш медленно разворачивается под ними, и тем из гостей, кто разглядит рисунок этого живого узора, Петр Васильевич оставляет свое перо.
2/o1/2оо4 рождественская сказка - 3 Говорят, что всякая история имеет свое начало и конец, и герой ее, будь то один человек или все человечество, неминуемо движется сквозь перепетии судьбы и сюжета от пропасти к пропасти. То есть, любое событие, случившееся до или посли истории уже не имеет к герою никакого отношения - мы вспоминаем о персонаже лишь тогда, когда с ним что-то происходит или происходящее хоть как-то его касается. Даже самый опытый рассказчик почувствует себя неловко, если попытается поведать о свершившемся, происходящем или грядущем, не упоминув при этом ни об одном деянии героя своего повествования. Потому это и не история вовсе, а скорее сказка. Сказка, которую можно рассказать лишь молча, и которую лишь в молчании внимательный слушатель может распознать. Поскольку сказка эта не имеет ни начала, ни конца, нет никакой необходимости сразу представлять ее героя. Впрочем, его можно заметить и с другой стороны Площади трех вокзалов, ибо из сотни прохожих, снующих вокруг он один явно никуда не спешит. Человек стоит у выхода с Ярославского, согревая руки в глубоких карманах довольно потертой зимней куртки, слегка запрокинув голову, однако без признаков самодовольства или гордости. Кажется, его серые глаза пытаются высмотреть нечто, происходящее вдалеке, или вот-вот должное произойти. Впрочем, такой взгляд обычно бывает у людей, которые схватывают каждое движение, каждую деталь окружающего пространства, равно как и у тех, кто ничего не замечают, погрузившись в размышления или пустившись в мутное странствие по собственной памяти. Так или иначе, зрение этого человека в момент нашей сказки устроено так же, как и его дыхание. Его взгляд вдыхает все образы, попавшие в поле видения, одновременно и неосознанно, и те, закручиваясь в неведомых мыслях нашего героя, оседают на реальности туманными миражами, подобно тому, как пар, слетающий с его губ, на миг делает воздух видимым. Впрочем, этот человек отличается еще и тем, что он, пожалуй, единственный на площади, для кого очертания домов, людей, машин, сияющих витрин и новогодних елок, тротуаров, покрытых льдом, лиц и дорог сливаются в нечто подобное наркотическому дыму, дыму ядовитому и дурманящему. Движение, пульсация этой площади не имеет к нему никакого отношения - улица всегда живет своей жизнью, идете вы по ней, сидите в кафе или спите дома. Но теперь смысл этой жизни является очевидным - она целиком подчинена предстоящему Рождеству: магазины, бары, рестораны завлекают яркими вывесками, праздничными ценами и меню; люди появляются и исчезют в дверях метро, направляясь в гости и домой, где уже стоят нарядные елки; приезжие ищут глазами встречающих, машут руками, целуются; таксисты курят, пока один из них заманивает торопящегося к ужину прохожего, и они будут здесь всю ночь, ночь, которая уже накрыла улицу черно-зеленым бархатом городской подсветки. До праздника Рождества по православному календарю остается всего лишь один миг, а Рождество католическое уже прошло. Мгновение последней из 14 этих промежуточных ночей, также как и наш герой, принадлежат той пропасти до начала истории и после ее конца. Оно составляет ту самую редкую сказку, когда человек выпадает за пределы своего сюжета, а значит является чистым образом самого себя, значит его мысли не искажены контекстом событий. История в конце концов определяется датами, а потому частично повторяется, как из года в год повторяется 7 января, день Рождества. Впрочем, говорят, история развивается по спирали, и быть может 29 февраля, появляющееся раз в 4 года, не позволяет кругу сомкнуться. Хотя дело отнюдь не в календарных цифрах. Мысли всех этих люди на площади уже начинают искрится рождественским сиянием, пусть даже большинство из них этого теперь не осознает. Праздник Рождества нанизывает один и тот же день истории на одну нить, и каждый человек, спустя десять лет, сто, тысячи, становится свидетелем однажды происшедшего, точнее однажды происходящего, поскольку жизнь Христа, даровавшего людям жизнь вечную, не принадлежит времени. Это одновременно и история, и та сказка, которую можно рассказть лишь молчанием. Вероятно поэтому во всех случайных свидетелях той части ее, которая совершается на площади, наш герой почти явственно, но бессознательно, чувствует чудо, присутсвие и дыхание Творца. Счастье хотя бы однажды или изредка улавливать вокруг эту божественную искру странным образом свойственно русскому человеку - юродивые и святые веками ходили и ходят по нашей земле. Имя нашего героя не столь важно, посколько имя всегда упоминается в связи с каким-то событием, а событий в происходящей сказке нет. Наш герой совсем недавно сошел с поезда, прибывшего из Восточной Сибири, где провел Бог знает сколько времени. Теперь он стоит, грея руки в глубоких карманах потертой куртки, и стоит на краю пропасти, за которым начинается начало истории. Именно сейчас, когда человек является чистым образом самого себя, когда в его судьбе отмечена точка пустоты, а мысли не искажены контекстом обстоятельств, в нем начинает клокотать и подниматься к самому горлу невероятное Чувство. Оно позволяет видеть во всех случайных свидетелях этой сказки искру творения, а стало быть дает ему силы вдохнуть весь яд, скопившийся на этой площади, во всем этом городе, и превратить его в дурманящее зелье радости, всепрощения и милости. Он видит грязных и злых, жадных, боящихся, слепых детей, но все эти дети где-то глубоко сияют маленькими звездами, указующими путь к их сердцам. Его серые глаза как-будто пытаются высмотреть нечто, происходящее вдалеке или должное произойти, и сказка переступает предел. В следующее мгновение начнется новая жизнь и продолжится суматоха площади. И эта следующая история начнется с великого праздника Рождества Христова.
9/1o/2оо3 Путешествие - лучший способ возвращения в эту муть. Обыграть, покорить, обмануть, убежать. Дорогая, забудь. Водитель, куда-нибудь. В путь. В степь. В степи всюду есть куда выступить и не прийти. Город, кажется, болен информационной чумой. Смой, дорогая, смой, дорогой. В запахе местной воды, запахе мертвого камыша карманный оазис смягчает илом твой шаг. Значит смерть, которая в степи с метлой, заметает пылью следы, оставляет шанс добраться до следующей воды. В это слабо наверно верится чужакам, поскольку неба здесь больше чем земли с песком, жгучий ветер вяжет тебя по рукам, называя то ли пророком, то ли плоти куском. Плати, не плати, а небо ведет свой счёт, день, ночь, чёт, нечёт, и мы, плохие кочевники, древним кочевникам не чета, не выходим из дому без щита, будто будет нам разница на щите в Москве ли, Итиле, бля, Элисте, в богатстве ли, нищете. Меняю щит на коня, дорога прими меня, не отпускай, земля, как хорошая конопля. Вуаля, колышутся в мареве южные города, городи огород - лотос, арбузы, зеленый чай…, и тень (здесь - иероглиф спасения, Отче печать) отбрасываем ты и я, и даже такая тварь как змея. Впрочем, это уже фотографии, дно соляных озер, дно памяти, искаженная перспективой тень, из уст любовников города весь этот вздор, пока любовница ложится в постель, соблазняя стилетом в сердце, обманчивой тишиной. Столица, опять, возвращение, в своем ядовитом стиле, поражает небо возможностью мокрых крыш, песнями, которых еще не спели, шумом дождя - спи малыш. Потому путешествие - лучший способ возвращения в сад химер: ты проснешься такая же голая, сходишь в ванну, помоешь голову, чертыхнешься на голливуд, и по лестнице спустишься к городу, где шаг вправо - пески до Монголии, шаг влево - кондиционер…
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|