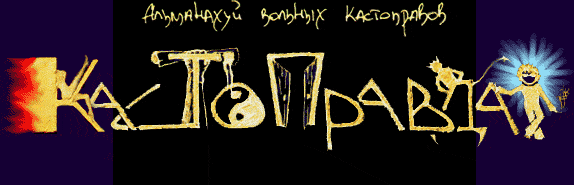
|
|
||
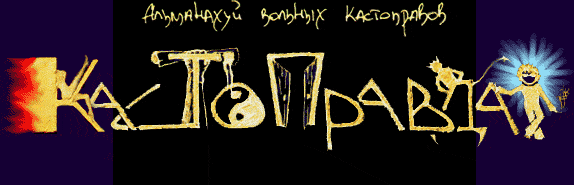 |
||
|
год девятый6/2/2оо9 умер егор радов Егор Радов умер днями в Гоа, куда отправился отдохнуть с дочкой. Романы и рассказы его не безлюбопытные, но от моей жизни они прошли совсем стороной. Другое дело, что он был когда-то мужем Умки, и у них есть сынишка, который живет в нескольких песенках нашей юности. Из серии и из времени «Я иду по узенькой дорожке, у меня есть маленькие рожки…» А потом общие вещества нашего круга, алкоголь, черная, которые и теперь поминают Егору те, кто его не любят... Впрочем, осталось много и тех, кто его любит... Ну и за человека ушедшего больно, - как-то там ему сейчас, - если вообще есть это «как» и это «там»… Перебирал я по этому поводу блоги. Есть отвратительные, типа "пил, ширялся, плохо пах, «мамочка Римма Казакова» очень страдала. Есть и другие. «Никогда не читал, а вот сейчас прочел, и здорово понравилось». Тоже ведь обидно, по-своему. То есть при жизни ему было б наверно в кайф, чтоб его читали... А у персонажа по имени Яшкевич, в блоге которого девиз "в ожидании царя и отечества", - в общем, личность, по всему чуждая Егору, - я нашел такую вот запись: «Странно, но меня задела его смерть. Егор Радов - человек, чей роман "Змеесос" в начале 90-х окончательно отвратил меня от того, что мы тогда неправильно называли "постмодернизмом". Но и тогда и после Радов и его творчество занимали крайне переферийное (если вообще занимали какое-то) место в моей жизни. Наверное, дело в том, что все мы стареем и одним из признаков этого становится то, что уходят люди, которые даже будучи бесконечно чужими, в чем-то были совсем своими, а остаются одни торжествующие Малеры. Тоскливо это». Действительно, тоскливо. Торжествующие Малеры, торжествующие Максики… И еще ужасно странно, что многие даже в блогах, в двух-трех строках поминают, что Егор страшно мучил мамочку, которая всю жизнь за него "боролась". И никто не пишет, что Радов-то по-настоящему одаренный человек, со стилем и с надрывом, а Казакова - советская кукла, скорей всего, и ни фига не стихотворец. И, возможно, сама эта пропасть в Егоре была как раз из-за того, что мама его считалась настоящей поэтессой, причем одной из первых в СССР, секретариат Союза писателей, ЛГ и пр., и др., но никак не была поэтом, не писала стихов, которые, - простите меня на трехэтажную отсылку Дима и Осип, - «ворованный воздух». А писала много таких, которые «мерзость и запустение». Причем делала она это, быть может даже, не в силу недостатка одаренности, а по причине уродливых социальных выборов. И вот, блядь, ни одна сука не помянула, что Егор в том числе и за это платил - всей жизнью. А то - "она за него боролась"... Заладили, ебёныть… А на самом деле – он расплачивался по ее счетам… Но, правда, очень грустно. Пишут, что заканчивается эпоха. Она заканчивается, конечно, постепенно, вместе с нашей памятью, совсем не пасторальной... Любители пасторали нас сменят, в конце концов, и станут торчать и выпивать умеренно (я и сам сейчас почти не торчу и выпиваю умеренно…)... Однако, когда умирает писатель и поэт, которого глупенько именуют "русским Берроузом", надо бы вернуться к текстам, а не к наркоте, выпивке и семейной жизни. На полке у меня стоит "Якутия". Перечту... каждого из нас это касается: как мы любим мертвых. Для некоторых писателей смерть становится как бы лучшей PR акцией за всю жизнь. Такое впечатления, что без нее иные слова «провисают», остаются словами, выглядят недостаточно убедительно. Будто кто уверен, что автор не умрет, жирует себе на чистом воздухе, а сочиняет мрачнуху. А сейчас парень помер, значит, оправдался, подтвердил, бля… …Вот от этого, действительно, и тоскливо, и тошно…
19/1/2оо9 бывает, хочется реального хаоса, помоек, река ваще грязная как черт на свадьбе, детский зеленый велосипед дрейфует к шлюзу, рыбы мутанты глотают человеческие консерванты, набухают купола над всем этим мочьем родным, ртутные сны, воспарение по этому ржавому сдавленному дну речному, сам городище тротуарный то ласковый то анакондовый, с децибельно ухающей артерией, пережатой хирургическими щипцами, с лысым ледником под новеньким фонарем, где кто-то кого-то (лица в тени) прихватил горячим за нижнюю губу, где за час до высунутого на ветру языка цыган прыгает в такси, укуренный (как кстати крутят по радио кинкс, как же четко - верно город умеет прокатить с ветерком - подарки, намагниченные ништяки), амфетаминовый сухой закат, головоломная зимняя засуха заполночь - все нечетко непроявлено, но почти идеальный кинокадр а ля бертолуччи - голый человек моет посуду на втором этаже, левая нога приплясывает в такт, можно угадать, что это там гремит - какой-то дремучий джазок.... тарелки как белые видения растут, заполняют собой марганцевую кухню, и вот голый танцор, тряся мудями, спасается от них на подоконнике, самое лучшее убежище на ближайшие сто тыщ лет. я отчетливо вижу, как вызывающе мумифицируются его конечности и благоухают внутренности, он машет рукой и даже дрочит на тяжелый беспросветный трафик, трафик отсасывает у трафика, автомагистрали постанывают, почесываются - песок, песок, на дорогах, жирная кислота плавит лед .... почти совершенство, узорчатая тень, между ночью и ночью - бомж - на самом деле старик, сосед с пятого эт. велосипедным фонариком стреляет по спящему двору. король мусорного бака, ненужного скарба, отшельник и мыслитель ночной пустыни. он перебирает, он нюхает, стучит и пробует на вкус мои позавчерашние бутерброды, мои утренние окурки с косточками оливок - нерешенные поэтические ребусы- . он повторяет одну и ту же детскую молитву, сплевывая в капюшон. его дед жил в африке несколько лет, пока не умер от пьянства под Тверью. его мать тихая учительница. зрение минус 12, по-своему показала ему, где обитает добро, одарив его -12ю на оба глаза. он жил счастливо и 40 градусов давались ему легче легкого как и логические задачки. он женился и жил бы так, если бы не жажда, жажда распознания. всякая культура ценна контекстом. он долго искал и вот наконец нашел неиссякаемый источник. - забор артефактов - ритуал требующий обстоятельности охотника. а лучше вообще наживца. к тому же - что может быть слаще, когда шаря фонариком по выброшенным пакетам, рухлядью, с ароматными подмороженными коробками, он чувствует стыдливый взгляд в спину. как знать, чей скелет удастся выловить на сей раз, может быть - твой, ночной брезгливый подглядчик. "сейчас я прочитаю твою маленькую предысторию...впрочем, в другой раз - ты, знаешь ли, сегодня и не жил вовсе, отсутствовал - в моем мире - зато я - вторгся в твой, прохаванный, я позвонил тебе по предвечному телефону, набрал твой неизменный номер назвал твое имя в сто пятьдесят букв. и ты выл, выл - о чем-то о своем, милый мой, я переслал через посыльного робота тебе остатки мартини из моего вчерашнего улова. но ты говорил часами о своем детстве, о уличном театре, о маме и каких-то ворованных с рынка корнеплодах или - ты хотел сказать корне-смысла? что, дружок, уловил, нет, а. ?".... насладившись мусорщик завершал свой моцион осмотром свей суверенной республики имени рыцаря-победоносца. неспешно, прихрамывая на левую, ступал вокруг квартала - мимо военно-воздушной академии, до самого парка, исполосованного следами ног, сворачивает за угол, где рождается особенная тишина - с электрическим отблеском вдоль жирных луж на пустой дороге. хозяйство, хозяйство....покой-покой. мысли соскальзали в колодезную бездну, кровеносным шелком выстилалось небо на стиснутом горизонте, пьяняще пахло предчувствием чего-то хорошего. быть может это воспоминание, дежавю - откуда-то из ранней развесистой юности, или это вот сейчас родилось новая радостная воля. идти, смотреть. через глуховатость воздуха, через толстую слепоту, подмечать зажеванность высокого сугроба у проваленного гаража, над которым так чудно потряхивает ветром рекламный щит очень надежного банка, выдающего кредит почти что даром.
13/1/2оо9 Тонкий слой льда. На улицах и тротуарах, на затвердевшем снегу, на крышах - на всем. Скользко, как и в самом слове - склизко, бесконечный вопрос на ускользающий ответ. Скользко времени, или например, скользко с меня? Прозрачный, подлый слой льда, видимый только в бликах и отсветах луны, окутанной холодной радугой облаков, оттого напоминающей узкий зрачок. Глаз, выдающий то ли неприязнь, то ли барбитуру, то ли сжавшийся от яркого, невидимого прохожему, света. Но под ногами асфальт, без сомнения, мостовая, камень, песок, и лишь этот полиэтиленовый лед, словно уменьшая силу притяжения, не дает приникнуть и крепко прижаться следом к замерзшей земле. Без ветра люди качаются, падают, хватаются друг за друга, отчего ветер как будто бы здесь, и продувает город как степь. Иллюзия иллюзорности, реальность как она есть. Фокус ли - превращение слова, обращение заледеневшего (давным-давно, когда драконы отправились на войну) города в игру. Скользко – скользи! Семь холмов, любой спуск, любая скорость. От центра до края и обратно не сделав ни шага. Но будто и льда нет – нога встревает там, где в следующий миг не за что зацепиться. Только несуществующий ветер, призрак урагана, принесший из забытой эпохи пьяную походку жителей, празднующих победу, оплакивающих опустевшие улицы. Река, истоком уходящая в начало времен, приютившая город и покорившаяся ему, – реальность постоянства в течении. Скользящий взгляд всегда остановится на ее берегу. Лед, укрывающий реку зимой, казалось бы, совершенно иной природы: он держит, он открывает пути. Но только не ночью, когда несуществующий ветер гонит облака мимо лунного ока. Прижимаясь к ограде моста и наклоняясь в сторону реки (это движение только и осталось с того времени, когда духи высоты набрасывали невидимые верви, за которые тянули к себе, ибо никто не желал познать их), вглядываясь в черные тени-проталины, вдруг обнаруживаешь цветок. Брошенная бутылка или мобильный телефон с увесистым списком контактов, выкинутый как мусор, пробили тающий лед, и круг воды распустился трещинами, обозначившими контуры лепестков. Но и сам этот цветок появился не на реке, а открылся на дне ее. Ибо однажды, по зову океана, вода ушла из города, на ночь обнажив волнообразные накаты пепельного песка, разделенные лишь темными лужами, ждущими прилива. Слабеющий лед, отпускающий реку - не меньшая иллюзия, чем это пустынное ее нутро. Или потрепанный кадр синематографа, вызвавшего из забытья картину той поры, когда в городе жили наездники, чьи седла были как теперешние мосты, обнимавшие чешуйчатую спину гигантской змеи. «Ride the snake!». Ride the snake… От тех давних времен осталось лишь одно время, в одну из ночей которого город покрылся тонким слоем льда. Искаженная сиянием снега и фонарей перспектива закручивает широкую улицу в воронку. Ни единого человека в этом странном туннеле. Только кошка, дремлющие фуры и сотни безмолвных ограждений. Еще одно смещение, и через этот спящий туннель пространство выведет тебя на ту сторону сна. Когда сны в этом городе были живыми, их почти никто не запоминал. Теперь, всякому, чей путь ляжет через черную степь мертвого сна, следует заглянуть в тот двор, чтобы утолить жажду. Сгустком памяти, окруженным стенами городского бессознательного, во дворе стоит крохотная часовня. С иконы, висящей над входом, смотрит покровитель путешественников и моряков, Николай Чудотворец, которому часовня посвящена. А вокруг – десятки брошенных якорей. Со дна Волги, Черного моря, Тихого океана… Куски перегородок крейсера «Варяг» и имена матросов, вышедших на нем из Чемульпо в 1904 году. И на стенах, окруживших часовню - имена знаменитых русских путешественников. И сами эти якоря, будто брошенные с небес на невидимых цепях молитв всех странствующих – музей Федора Конюхова. Еще один экспонат в музее музеев, как и музей воды неподалеку, и музей валенок. Воздух, сотканный из переживаний спящих окрест, наполняет легкие холодом с привкусом весны.
11/11/2оо8 пограничные письма.1.утро. Пройдя через сумрак и самые холодные часы суток, город возвращается из небытия ночи. Будто бы его формы: углы домов и жесты прохожих, слова покоя и тревоги, – поизносившись за день и погрузившись в подлунное ничто, вновь обретают свежесть и новизну. Ледяной красный, исполосовавший небо, красное всегда, здесь, на краю времен, лишь на какие-то минуты обозначает лестницу, по которой восходит солнце. Оно, вот уже два года, как говорят ученые, болело, его активность была минимальной за всю историю наблюдений. Но на нем снова появились пятна, почти родные (родимые) после столь долгого отсутствия. Привычный ход вещей, гипнотизирующий ритм жизни, строй и рифмы поэмы бытия. И, «кто же, дождавшись утренней зари, убоится, что снова стемнеет?», и воздух, впитавший еще самое начало времен, бережно выкладывает на подоконник и эту молитву Нарекаци, быть может и обозначившую у воздуха эту способность, хранить ровное дыхание человека, вмещать слова, возвращающиеся на язык с каждым вдохом. Вздор и трепет, песни и плач тысячелетий, застывают в теплых подъездах, гуляют сквознячком через открытые двери, сочатся сквозь щели окон, закручиваются в воронки ураганов. Что за фразу рассекают в этот момент птицы, летящие на юг, чьим именем пахнет сейчас переулок, наколотый на розу ветров. И возможно ли сомнение, когда свет столь просто возвращает взору отчетливые края и линии, еще недавно смешанные сумраком. Границы становятся явными, и та, что проходит внутри каждого, и та, общая для всякого, и любое между... Мудрая «Книга перемен» полна прерывистых и сплошных линий, и все, что открывается утром взгляду, можно было бы представить состоящим только из них – эдакая «матрица» сильных и слабых черт: край дома, провода, разрез глаз дворника. Если бы не воздух и с ним все слова, что с невозможной легкостью ложатся в пустоты между штрихами. Между цифровой тоской цифрового века, стучащейся на порог каждый вечер, и ужасом пустоты, без устали поглощающей всякий след жизни. Здесь, оглушающим утром на краю времен, между гудками автомобилей и полифонией всевозможных кнопок, еще хранящих тепло пальцев, включающих миллионы форм жизни. Сейчас, от вдоха до выдоха, среди всех пределов, выхваченных солнцем, которое пусть и само сотни раз на дню окажется иллюзорным, всякая пустота оказывается оплодотворенной. Пустые слова, пустые жизни, пустое движение тел и идей, пустые желания и страхи. Росток, трогательно торчащий из трещины асфальта, пусть даже один из бесконечности, превращается в дерево, обхватившее корнями остатки дороги. То невыразимое, что естественным образом, само по себе, покоилось в тех же дорожках винила и реагентах старых фотографий, в глазах людей и чертах предыдущих эпох, продолжает прорастать этим утром из всякой границы, раздвигая пиксели и цифры. Сколь много надежды для смертного, одинокого и заброшенного в песках вселенной, пределов которой никто не знает. И внутри каждого, необъяснимо, эта жажда. Того самого существенного и значимого, что способно стать тайной самой глухой и гулкой пустоты, того, что точно обозначено на всяком краю, смысла ли, обыкновенного глотка воды из чайника. Но едва прикоснувшись пальцами к тому, что бессознательно ищешь всю жизнь, трудно не раскрыть ладонь, чтобы, наконец, ухватить наверняка, ощутить предельное, самое совершенное счастье бытия. И еще труднее снова и снова, оказавшись на краю, ощущать песок, щекочущий, ссыпаясь, ладонь. И пока у человека есть время, он продолжает искать ту самую границу, полагая, что однажды ее найдет. И, кажется, что вот уже бессмертие видно через электронные микроскопы и компьютерные системы, но оно оборачивается нескончаемой дробностью атомов и жизней, отгороженных друг от друга персональными ячейками, еще одним бессмысленным и пустым пределом. В мире, полном лишь сильных и слабых черт, можно остановиться на каждой, от понятной усталости сомкнув глаза и погрузившись в дремотный сумрак, где чуть менее одиноко, оттого, что есть такие же как ты. И каждое утро встречать как начало еще одного дня, в котором все останется по-прежнему, хотя этого еще нужно добиться, чтобы удержаться на выбранной линии. Потому что она – граница, какая-никакая, среди множества подобных… И на ней, как и на всех остальных, происходит все то, что через мгновение может оказаться песком на ладони, но все-таки, но вдруг... Солнце, плавно переступающее небосклон, все явственней очерчивает пределы, город начинает свой новый день. Линии, которыми испещрена «Книга перемен» сами по себе ничего не значат, но лишь обозначают границу между внутренним и внешним, прошлым и будущим, слабым и сильным… Вся жизнь, которую так ловко уместили в 64 гексаграммы, перемены обыкновенных сплошных и прерывистых черт, – это преступление... границ. Потому что всякая граница находится между. Между я и ты, между тем и этим… Куда так легко попадает воздух, принимая и отдавая всякое дыхание. Между ночью и днем, между вчера и завтра, между звонком мобильника и цоканьем каблучков по тротуару, между именем и ником, между движением и итогом - он может выложить на вдох самые неожиданные слова, которые, несмотря на все желание, никак не задержишь надолго в легких. И не жалко выдохнуть обратно, переступая тем самым черту. Слова Высоцкого, знакового гостя для всякого московского сновидца, затекли в форточку. Припев и только: «на нейтральной полосе цветы необычайной красоты». Растут ведь… P. S. в тоннелях времени хватаясь за ускользающий момент поет егорьев прорастает сквозь толщу высказанных лет и лист осенний замер между землей и веткой, светом, тьмой и греет вечности промежность и длится миг перед зимой.
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|