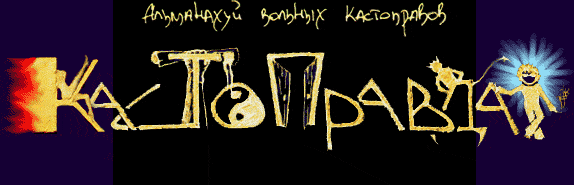
|
|
||
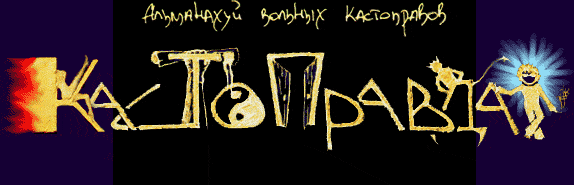 |
||
|
год пятый2/o9/2оо5 между черным и белым, морями конечно, быстротечно и нежно осталось лето, дорога из варяг в греки должно быть легла навечно, хотя в тех местах дорог порой просто нету. каменная мостовая под пылью ног и столетий тянется между деревьев возрастом старше жизни; выйди из автомобиля и стань моментом, Бог знает каким мгновеньем, какой наживой. сова ли тебя заметит, почует ли ночью рысь, кто-то прошепчет на ухо: брось тело, возьми мое - время завязло в ветках, и пока ты здесь и не спишь, уже сгоревшая спичка вспыхивает огнем. до архангельска еще тысяча километров, до юга столько же бестолковых фраз, но пожалуй в том что ты здесь тоже есть смысл, нас как минимум двое, и это раз. как максимум - влюблены. даже волки достают воем до вологоды из-за какой-то луны, но мы движемся не от воя, но от луны под конвоем сомнительных радиопередач в шуме средней волны (на той старой дороге все на это обречены). к вечному солнцу, к неге полярного дня, только представь как долго там ты могла бы любить меня. небо или земля, небо или земля, где горизонт не поймешь без "бля!", и если стоять в полный рост, летящего ангела можно схватить за хвост. или это рыба? и снова начать с ноля. между черным и белым, морями конечно, быстротечно и нежно осталось лето. где-то в этом между я курю сигарету и вместо "какого хера?" думаю "какого цвета?". зеленоглазая шива танцует мне на прощанье, не обещая, не оставляя номера телефона, в такой момент должно приходить отчаяние, но она танцевала и танцевала здорово. эй моррисон, джим, я ведь тоже не знаю, где оказался когда кончилось лето. где-то между. францией и китаем? чтобы узнать нету даже билета. впрочем в том что ты здесь тоже есть смысл, быть здесь это круче магии чисел, круче любого сплина, мирового порядка, круче чем утренняя зарядка. черное море. белое море. по той старой дороге ходила история, и завязла в ветках, осела пылью, а пыль под капотом автомобиля и в грязных легких, осела за тысячи лет у стольких, что стала силой. потому в момент, когда должно приходить отчаяние, вместо "какого хера?" я думаю "какого цвета?", поскольку все мы однополчане, если верить предкам, а не в приметы. черная кошка с белым пятном на хвосте, за девять жизней должна была побывать везде, но все же спит на моих коленях, значит осталась здесь. желает ебаться, желает поесть. у человека белая кость и черная тьма причин думать что он здесь гость и в сущности он один, но на древней дороге кто-то прошепчет: брось. брось и иди.
17/o6/2оо5 на московском берегу уехать из москвы было бы еще трудней, если бы здесь были море и горы. море, скажем, вместо рублевки, чтобы смотреть там закаты. горы - за измайловским парком, чтобы через перевал начинался восток. и солнце бы рано не будило, цепляясь за вершины, и ночь бы сияла бликами на волнах. и ритм приливов и отливов определял бы столичную суету, а ветер бы обрел голос прибоя. и время, размазанное по небу, было бы осязаемо несущественным. горы и море сделали бы москву иной, потому не видно их с местных крыш. но здесь есть все. любому вошедшему - возможности, в неограниченном количестве. ищите деньги, ищите славу, ищите редкости, ищите жизнь, смерть, себя, других… вероятностью всего пропитаны дома и дороги. шанс найти начало ускользающей тени. прикоснуться, овладеть, потеряться и потерять. море и горы должны быть тоже. лучший способ найти то, чего не знаю есть ли тут - посмотреть на небо. Это вообще лучший способ найти. И вот, с крыш его видно довольно. Московское небо изгибается. Оно - небо побережья. Только там небо само клонится к горизонту, а не земля, когда упирается в несовершенство зрения, будто режет что-то, утверждаясь. И цветом московское небо бывает, какое лишь на берегу моря встречается. То есть нереальным, как и положено небу. Если не обращать внимания на этот логический коллапс в реальности и нереальности столичных небес, и оказываешься на побережье. На границе, где и положено человеку. Еще жара, душная, ленивая. Воздух киселем. Такая, что кроме нее к концу дня ничего не остается. И все, незамеченное ранее, становится осязаемым. Вентилятор на полной мощности кажется наматывает тягучую смесь. Жара глушит любой звук, будто мир томится в утробе, что-то наговаривая самому себе. Комары, пьяные без крови, одуревшие мухи, которых можно было бы переловить пальцами, шарканье тяжелых городских улиц за окном. Как в дурмане глубокого сна, в котором вдруг прощупываются разогретые края реальности. Тело, капли пота, замедленное кино. Плавятся очертания предметов, плавятся слова на языке. И не только земное притяжение клонит лечь, сама ночь втягивает в свое нутро. Губка, раздавшаяся от плоти, выжать некому. Движение в липком меду. Кажется, чтобы коснутся достаточно сделать лишь жест - на любом расстоянии его ощутят накатывающей горячей волной. Такую ночь можно набирать в ладони, но она истекает сквозь пальцы как песок, как очень соленая вода. И каждая минута приходит словно волна, накатывающая на берег из небытия вечности. И из густого, влажного табачного дыма можно пускать не то, что мясистые кольца - можно строить корабли. И одним лишь выдохом направлять их в окно. Потому как там, на границе, это и есть московское море, отпускающее побережье с первой утренней прохладой. Тогда поезд, в который садишься, не увозит тебя отсюда, и не забирает в путешествие из... по... в... Тогда он просто поезд на не обозначенной на карте метрополитена линии. И сутки перегона с разговорами, выпивкой, снами, курением в тамбуре не сообщают ни знаков, ни примет. поезд идет ровно по границе, в странствии по которой нельзя ни на что полагаться. Двери закрываются здесь, открываются там. Замечаешь лишь то, что минуешь. Бабульку, продающую на станции пряники да кефир, когда пассажиры спрашивают самогону, и уже молящую купить у нее хоть что-нибудь, и к пребывающему на соседнюю платформу поезду успевающую лишь снова оказаться крайней в толпе более предприимчивых торговок. Проводницу, задумавшуюся о чем-то и прозевавшую зеленый сигнал для поезда, и едва успевающую затолкать разбредшихся по платформе пассажиров в набирающий скорость состав, и успевающую впрыгнуть на самом краю. Да и то, что замечаешь - забывается, как растворяет волна след, оставленный на песке. И стучат колеса, и подрагивает вагон, но не время идет, и не километры отсчитываются этим поездом. Где-то на границе между реальностью и нереальностью тягучая московская плоть принимает новые очертания, пока ты болтаешь с попутчиком, сжимая в руке край ухваченной тени. Так тебя и встречает город, очнувшегося с лохмотьями ожиданий, сжатыми в ладонь. И ты натягиваешь их, словно нить, по которой движешься, забыв как легко ей порваться. И оказываешься у моря. В Ялте. Ялос, берег. Но в отличие от многих берегов планеты, он не манит возможностью уплыть к горизонту. Не трогает тем, что где-то есть другой берег и другие. И материк не давит тяжестью своей необъятной суши - горы, опоясывающие Ялту, будто хранят гостей от подобных мыслей. Они сужают пространство как раз до того размера, когда, ощущая свободу, ясно чувствуешь и ту тонкую полосу пограничья, на которой и положено человеку быть. Ничего лишнего. Ты входишь в воду и возвращаешься на берег. Ты поднимаешься в горы, но все равно к вечеру спешишь к морю. Идешь, бросая окурки, между реальностью и тенью. Или между чем-то сверхъестественным и его тенью, этой реальностью, какая разница. На самом деле просто стоишь по колено в воде между небом и землей и радуешься тому, что единственное, без чего бы мог обойтись этот мир - это ты. Но не обошелся.
22/o2/2оо5 Ночь, я покупаю сигареты, иду к набережной. Праправнучка Апполинарии Сусловой, любовницы Достоевского и жены Розанова, говорит, что она против зимы, и ступает летними кедами в искрящийся сугроб. Река - текущий пластилин, похолодание. Кто знал, где мы будем, когда кончится лето. Когда кончилось лето? Этого-то, кажется, никто не заметил. В двух домах от набережной высокий промышленный забор - ничего странного для этих странных мест. На воротах табличка: "ПРАНА". Завод. Прана… многое от этого проясняется. Что происходит, когда здесь пустеют улицы, когда гаснут прожектора, освещающие купола Крутицкого подворья на том берегу, когда из окон выползает ночь, простая как само слово, которое сколько не повторяй, всегда означает одно и то же - само себя. Ворота завода "ПРАНА" остаются закрытыми. Рабочие проходят сюда сквозь стены и рассаживаются у станков. Здесь на тысячи веретен они наматывают время, и пряжа идет мимо машин в руки, безостановочно выплетающие невидимые узоры диковинных полотен. Объявление, вмерзшее в ободранную кирпичную стену, привлекает внимание своей неброскостью среди десятков предложений куплю/продам/сниму. "Внимание сотрудников завода, попавших под сокращение. С первого февраля льготы выплачиваться не будут". Костяшки пальцев белеют, мат согревает. На заводе "ПРАНА" производят силу. Перегоняют через куб, настаивают в обожженных бочках и затем разливают по сосудам. По сосудам всякого, постучавшего в закрытые ворота. Тлеющий фильтр сигареты обжигает губы - ее время кто-то незаметно намотал на веретено. С соседней улицы тянет запахом дрожжей - на том заводе тоже кто-то не спит. Кажется, этот запах вот-вот замерзнет и осыплется звенящими хлопьями прямо вокруг нас, и в воздухе не останется ничего, кроме воспоминаний о дыме сигареты и произнесенных словах. Я... Против... Зимы... ("В ночном кафе мы молча пили кьянти / Когда вошел, спросивши шерри-бренди, / Высокий и седеющий эфенди - / Враг злейший христиан во всем Леванте…"). И сразу становится жарко. Быстро орудуют нитью руки рабочих завода "ПРАНА". Движение их незаметно - как они пробираются туда через эти закрытые железные ворота? Вероятно, проходят сквозь стены. Бесшумно работают станки. Время, словно текущий пластилин, это похолодание, крошка. Водитель везет меня через Москву. Он увлекался общепознавательным биологическим чтивом: "те, кто жили в этих краях до нас, тысячи и тысячи лет назад с наступлением зимы впадали в спячку - спали по 20 часов в сутки до весны". Где-то я это уже слышал. Где-то я это уже видел. Спустя тысячи и тысячи лет это уже не про нас. Никто не заметил, когда кончилось лето. На заводе "ПРАНА" из секунд ткут диковинные полотна. Ночь и день, и все, что внутри них, я и ты и наши мысли о свободе, о Боге, о связи в отсутствии положительного баланса на счету, друг о друге, о стихах, расстояниях, о заводе со столь странным названием. Река течет, а лето невидимым узором наматывается на мой локоть. Рабочие завода "ПРАНА" не выполняют заказов - они работают. Им осталось вышить 7 дней до весны.
|
|
|||||||||||||||||||||||
|